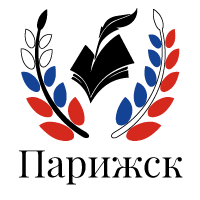| Биолог, кандидат наук. Родился и вырос в Москве. Работал на Дальнем Востоке. Живёт во Франции. Автор сборников стихов и рассказов. С 2009 года член Союза писателей России. |  |
Гречневая каша
Приехав во Францию в так называемую «колбасную эмиграцию», мы с супругой поселились у зятя — мужа, естественно, моей дочери. «Колбасной» же эта эмиграция названа по причине необъяснимой тяги россиян испокон веков к этому продукту. Вернее, очень объяснимой, так как семьдесят лет россиянин проживал в колбасном вакууме. Было о чём мечтать. И, конечно, было чему завидовать. Поэтому те, кто оставался в этом российском или постсоветском пространстве, особенно раздражались отъездами знакомых или друзей. Вот от раздражения и пошло это прозвище про «колбасную эмиграцию». А один из не очень признанных поэтов вообще оскорбительно назвал отъезжающих людьми, променявшими Родину на тёплый унитаз.
Я лично очень оскорбился последнему замечанию, хотя про колбасу терпел, и начал выяснять про этого поэта. Моё частное расследование показало: и этот поэт завистлив. Хотя истоки зависти я выяснил. Совсем не по Фрейду. Просто он жил в посёлке Ашукинская в домике, где «удобства» были на улице. А так как его проживание там было постоянным, то есть и зимой тоже, то упоминание о тёплом туалете как о предпосылке измены Родине объяснимо. И даже где-то оправдано. Наболело. Всё-таки поэт, ранимая натура.
Вот мы временно и поселились у зятя. Что для француза-зятя было несколько удивительно. Даже необъяснимо. Но, видно, рассуждал зять — это в непонятных ему до конца славянских обычаях, поэтому был вежлив, лоялен, терпел наше пришествие и пользовался случаем изучить хоть немного этого «homo sovieticus», так сказать, изнутри.
Поэтому я часто ловил на себе внимательные любопытные взгляды вежливого интеллигентного европейца средних лет. И вёл себя соответственным образом. То есть старался поразить воображение. И удивить. Что, в общем, удавалось. Так, за завтраком я стал наливать себе фужер водки. Аккуратно выкладывал на блюдечко ломтик сельди норвежской, лимон и ложечку диетического французского творога с нулевым содержанием всего. Заметьте, господа, селёдка и творог! Неслабо, а! Затем подменял фужер водой и лихо выпивал. Пытаясь после мурлыкать достаточно фальшиво или «Марсельезу», или «Вставай, проклятьем
Беседуя со своей женой, моей дочерью, зять жаловался, что на работе никому не может рассказать про своих родственников — этих русских. «Ну, кто поверит, что тесть мой за завтраком выпивает фужер водки и не умирает сразу?»
Затем я пугал зятя попытками вывешивать в обеденное время с балкона красное знамя с эмблемами СССР. Мотивируя это лучшим выделением желудочного сока от лицезрения флага исчезнувшей империи.
Было от чего прийти в шоковое состояние моему бедному зятю. Он даже пытался подглядеть в душе, есть ли у меня хвост. Не уверен, что он удивился бы, его обнаружив. В общем, я резвился как мог. Чего стоит этот розыгрыш с КГБ.
Когда-то на Арбате я купил шуточное удостоверение КГБ, где вся «фишка» состояла в госпечати: «Комитет Государственной Опасности». Что не все замечали и верили в его, документа, действенную силу. Я оставил его ненароком на обеденном столе, а зять спросил у дочери, что это за удостоверение.
«Шутки у тебя дурацкие», — пеняла мне жена, отпаивая зятя чаем с валериановыми травками. Пять месяцев большого труда стоило мне убедить зятя в его ошибочном мнении о моём государственном статусе. Наивные европейцы верят всему. Но в конце его добила эпопея с гречневой кашей. Дело же казалось простое.
За чашкой вечернего чая, обсуждая особенности загадочной русской кухни и не менее загадочные французские обычаи всю трапезу заканчивать сырами, зять сказал, что никогда не пробовал гречневой каши «а-ля рюс». А читал много. Даже чуть ли не то у Достоевского, не то у Толстого. Вроде бы даже, по слухам, и цари едали гречневую, а уж обыватели — ну просто национальная особенность русской кухни — эта гречневая каша.
Зять, сам того не ожидая, попал в точку. Моя супруга — отменная кулинарка. Чем и сохранила, кстати, крепкую советскую семью. В том смысле, что во время стандартных недоразумений и ненужных претензий ко мне, когда страсти достигали опасной метки 100 °C, я остывал и сдавался. Просто потому, что представлял: я буду где-то в другом месте и есть уже совершенно иную пищу, и над столом будут мелькать не полные руки моей супруги, а какие-то, да не дай ещё Бог худые, нервические, в браслетах. И есть придётся Бог знает что. Конечно — сразу сдавался. А что ещё делать!
Уверен, что любой читатель мужеска полу тут призадумается. Жизнь!
Супруга же моя пришла в возбуждение совершенное. Готовить умела и любила. И делала это с широтой урождённой сибирячки.
Так началась операция «гречневая каша».
Две недели мы обследовали все русские магазины Парижа. Искали гречку. Находили. Но вся то германского, то польского происхождения. Это не подходило по высоким понятиям технологии. Устав от бесплодных поисков и особенно огорчаясь расходами бензина на это не такое уж важное дело, я, конечно, обманул жену. Купив гречку немецкого разлива, я пересыпал её в мешочек, украденный у супруги, и заявил, что только что у поезда Москва — Париж, прямо у вагона купил у проводника вот этот мешочек гречки чистейшего российского производства. Жена поверила. Она всему верит, святая наивность. Даже не удивилась по поводу поезда. Уже более пятнадцати лет вагон Париж — Москва — Париж отменён из-за нерентабельности.
Короче, вечером крупа была промыта, рассыпана по чистейшему полотенцу, и началось первое священнодействие: отбор камешков, песчинок, веточек и прочего сопутствующего мусора. Зять с изумлением наблюдал за всеми операциями. Интересовался у дочери. Она ему переводила и поясняла. Зять удивлялся. «Разве, — спрашивал он, — могут быть в пищевой крупе какие-либо посторонние предметы? Ведь производитель может попасть под суд. Оплатить крупные штрафы». И тому подобное. Зять был юрист и закон чтил почти так же трепетно, как и свою жену. А может, и больше.
Наконец, всё свершилось. Каша была сварена. Отменно пахла. Допрела под подушками. На стол поставили сметану, масло. Жена принесла палехские деревянные ложки. Только ими, мол, в России едят эту кашу. Зять смотрел на все эти ритуальные действия с большим уважением. Первая ложка. «О», «а», «мгу», — раздались удовлетворённые, восторженные восклицания зятя. Вторая ложка. Вдруг что-то громко хрустнуло. Зять испуганно посмотрел на нас. Ему попал камешек. Кусок зуба был отломан.
Почти полгода вся семья (особенно, конечно, зять) добивались от меня адреса и названия русской фирмы, поставляющей в Европу этот продукт. Я же не мог признаться, что крупа была не российская, а немецкая. Ибо обман, пусть и самый невинный, моей супругой карался быстро и беспощадно. Больше ничего национального зять просил не готовить. Да и уехали мы вскоре на другую квартиру. Иногда, встречая меня, зять ехидно спрашивал: «А что, манную кашу перед изготовлением в России тоже промывают?» За починку зуба он заплатил 850 евро.
Русский дом
Много сотен лет назад в густых лесах приблизительно в 23 км от Парижа, тогда ещё просто поселения городского типа, девушка по имени Женевьева обнаружила ключ чистейшей питьевой воды. Окрестные жители ключом начали пользоваться. Даже мыться, что в те времени случалось не очень-то часто. Присматривала же за ключом Женевьева, которую за кротость, помощь ближнему и радушие народ полюбил. Стали происходить и вещи таинственные. То излечивался больной. То эпилептик получал покой, искупавшись в ручье. А то и деревня, охваченная эпидемией, что в те годы было просто катастрофой, целиком исцелялась, искупавшись у волшебного ключа.
Таким вот образом и стала дева Женевьева святой, а впоследствии и покровительницей Парижа. А селения вокруг ключа образовали город Сент-Женевьев-де-Буа, мол, Святая Женевьева в лесу.
Город рос и развивался. Наезжали сюда и галлы королевских кровей. Охотились и оказывали посильное внимание местным пейзанкам.
В этом вот благословенном месте и начали селиться русские эмигранты. Постепенно они становились на ноги. Появились домики. Конечно, огороды. И погосты. А какой же русский погост без церкви? Так вот возникло русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Здесь вся Россия. Портнихи, есаулы, генералы, дипломаты, священники, первопоходники, деникинцы, корниловцы — вся история России здесь, на этом кладбище.
А совсем недалеко — Русский дом, или, что печальнее, старческий дом. Некогда усадьба наполеоновского маршала, парк, остатки сада, службы. Здесь и поселились бездомные русские старики, а в наше время, вероятно, и их потомки.
Постепенно русский дом, с домовой церковью, троном императора Николая II, взятого из посольства Государства Российского, и портретами государей дома Романовых, превратился для его обитателей в дом печали, одиночества и постепенного ухода вначале из общества, а затем и из жизни. Теперь, в начале XXI века, только несколько человек так называемой первой волны остались в живых. Да и то — общение с ними уже затруднено. Старость подходит незаметно, но сказывается стремительно. А эти люди ещё столько пережили. Мне удалось познакомиться, к сожалению, с немногими.
1
Почти ежедневно в библиотеку старческого дома приходит Зина. Так все её зовут здесь. Зина небольшого роста, уютная бабушка. Когда играет гитара, Зина мило поёт романсы, а ежели разойдётся, то и старые казачьи песни. Иногда даже частушки. Вот какая Зина. Не подумаешь, что ей уже далеко за девяносто. Однажды я пошёл проводить её в комнату. Вернее, я чувствовал, ей хочется показать, как она живёт. И с изумлением увидел табличку на двери:
«Баронесса»
Зина, увидев моё изумление, попросила принести чаю, и состоялся её рассказ.
«Я, милейший вы мой, ведь урождённая станицы Лабинской. Мы потомственные казаки, вот и сын мой — тоже казак. Правда, какой он казак, шелапут французский? — в сердцах произносит Зина. — Да, что делать, жизнь. Что мне выпало, сказать страшно. Бог, видно, меня и папу моего пожалел, оставил меня жить. Вот только зачем?»
Зина молчит долго, чай пьёт истово, с большим удовольствием.
«Так вот, папеньку я помню хорошо. И запах махорки до сих пор помню. И на плече нагаечка. Правда, любил он меня очень. Всё на руках носил. И вдруг у нас что-то случилось. Папа ночью враз оделся да и ускакал. Оказалось, насовсем.
А дедушка мой был священник. Тогда, в эту революцию священников вперёд всего убивали. Вот дед и спрятался в овине. В сене, значит. А я маленькая была, меня в овин и посылали еду деду приносить. Но всё-таки его нашли. Так сразу на месте штыками и закололи. Мама моя это видела, она в шкафу сидела. Как она закричит. И выбежала. Тут её и убили. Я это всё видела. Маленькая была. А меня взяла к себе тётя. Мне тогда годиков шесть, пожалуй, и было. А помню всё как вчера. И часто спать ложусь — мне всё станица наша сниться. Да не то чтобы что-либо там, а запах. Сирень, полынь да чабрец — вот почти каждую ночь. Поэтому я эти ваши „шанели“ да „кардены“ на дух не принимаю. Мешают мне оне.
Вот, значит, тётка меня взяла и держит почему-то всё больше в хлеву. С коровой да телком. Да я девочка была тихая, а от всего, что видела, ещё тише сделалась, сижу на сене, смотрю сквозь щели на улку, играю себе, пою шёпетом.
Милка, корова тёткина, подойдёт, подышит на меня да вздохнёт так тяжело-тяжело. Вроде понимает что. А скорее — за своего телёнка боится.
В доме же у тётки всё шумы какие-то. Мужики ходют туда-сюда, орут. Тётка бегает, всё из подвала самогон носит. „Гусь“ зовём мы бутыль большую — три литра. Однажды слышала, дядьки какие-то во дворе пьяные уходили и тётке говорят: „Смотри, найдём этого последыша, вот об твой угол расшибём“. Рука, мол, не дрогнет, всё семя нужно вывести под корень.
Это я уже потом поняла, что про меня, верно, разговор этот шёл. Да про моего папеньку.
Однако уехали все они, ещё прошло немного времени, тётка меня в дом взяла. Я же, видно, росла очень, потому, что есть всё хотела. Ем, а тётка сидит и плачет. Только однажды берёт меня, помыла да платочек белый повязала, да платьице такое хорошее надела, и пошли мы в церкву. У нас в Лабинской храм был чудо как хорош.
Мы к церкви подходим, а тётка меня подводит в церковный двор. Там у стенки, видно, что-то копали: земля свежая да бугорки. Вот тётка и говорит: „Зиночка, моя сиротка, смотри и запомни, вот могила твоей мамы, сестрички моей милой, и деда твоего, царство им небесное. Совсем невинные убитые оне“. И всё плачет. Уж, конечно, и я плачу. Всё больше с перепугу. Тихо. Народу никого, недалеко токо стоят казаки, что ли. А мы плачем.
Потом мне тётка и говорит: „Зиночка, я тут больше оставаться не могу, пропаду я. Я тебя в дом сиротский отдам, а сама пойду воевать, за сестру мстить буду. Уж когда всё кончится, приду за тобой, ты не сомневайся“.
Да не пришла».
Зина молчит, чай тихонько похлёбывает.
«Ох, попала я в сиротский дом этот. Уж и не помню как. Токо помню, тётка моя с кем-то шепталась, всё узелки какие-то передавала, вот я и оказалась в этом доме. Но, скажу я вам, очень даже там страшно. И теперь понимаю, выжить там не так-то просто было. Верно, я здоровая была, да и Бог берёг — вот и уцелела. А умирали дети много и быстро. Что и говорить. Революция. Вши. У меня сразу всё пропало. Все платьица, косыночки, штанишки. Вcё, всё. Что на мне было, то и осталось. Потом и это куда-то делось. И одели нас, у кого всё сняли, в мешки. Да, да, не смейтесь. В мешке разрезали три дырки: для головы, для рук. И что было самое важное в одежде этой — верёвка. Верёвкой ежели подвяжешься, то и за пазухой можно носить что-нибудь, что стащишь. Огурец, например. Или помидор. Или что ещё. Есть уж очень хотелось. Как нас ведут мимо рынка, то мы все туда бросаемся. Что увидим, то и хватаем. Продавцы уже знают, даже особо и не орут на нас. Прячут товар, конечно. Но я и не знала, что это воровство. Просто мы как звери были. Маленькие, но беспокойные. В доме сиротском нужно, я поняла, в стаю сбиваться. В два-три человека. И ещё я научилась там кусаться. Как я собак теперь понимаю. Нас кто ежели брал за руку или ещё как, мы сразу р-раз — и укус. Больно кусали, нас и не трогали взрослые. А то набросимся на кого-нибудь, уж не знаю за что, и нет, не съедим, а кусаем. Да как больно-то. Раз я с мальчишкой подралась. Он аж уполз от меня. Я ведь росточком маленькая. Он меня колотит, а я упала и за ноги его кусаю. Он — в крик. А я сильнее. Убежал.
И ещё чего скажу. Штанов у нас никаких не было. Так и привыкли без штанов. Даже так я привыкла, что, когда пришлось их надевать, так неудобно показалось. Просто беда с ними. И пачкаются. А директор наш оказался большим мерзавцем. Он почти каждый вечер девочек к себе водил. Но Бог милостив, меня не трогал. Только ругал: „Больно ты, Зина, грязная у нас“. Вот через эту грязь в грязи не вывалялась.
Расскажу теперь, как я здесь очутилась. Просто в те годы ещё «красный крест» работал. Вот он-то по заявке моего папы и нашёл меня. И нескольких нас собрали быстренько, в поезд погрузили и ту-ту, поехали. Правда, детдомовские всё дразнили нас буржуйками, и били, и щипали. Перед отъездом. Ну, уж уехали.
Вот как ехали — не помню. Помню, с полки упала. На голове шишка, и плакала долго. Очень больно было. А на вокзале, теперь понимаю, это мы приехали на Гар-дю-Нор, нас встречают люди, крики, плачут все взрослые. А мы стоим, сказать ничего не можем. Ведь не знаем же ничего. Постепенно детей разобрали, вот и ко мне подходит какой-то дяденька. Усатый. Но махоркой не пахнет. Верно, папиросами какими-то. Стоит, потом присел и спрашивает:
— Тебя как зовут-то?
— Зина, — отвечаю.
— Вот ты скажи мне, а как тётю твою зовут?
— Аграфена, — отвечаю.
— Тогда скажи мне, Зина, — это он, мужчина, значит, говорит, — скажи мне, Зина, у тётки Дуни на лице что-нибудь есть?
— Да, есть, — отвечаю. — У неё родинка над губой справа и ещё шрам на лбу. Это её в детстве жеребец зашиб.
Тут дяденька этот как обнимет меня, да как заплачет. Аж в крик дался. К нему подбегают: „Господин сотник, успокойтесь“. И кричит кто-то: „Водки господину сотнику“.
Вот так мой папа и нашёл меня».
Зина опять стала прихлёбывать чаёк. Несколько раз перекрестилась. Я встал уходить. И Зина встала.
— Вот спина моя бедная, болит и болит, спасу нет.
— Давайте я вам разотру её, — предложил я. И стал тихонько массировать Зине плечи, лопатки, поясницу.
А Зина прислонилась ко мне, и показалось, что снова она маленькая девочка из детдома станицы Лабинская.
Зина тихонько плакала, но мне сказала: «Это уже от нервов». Ничего, мол, страшного, сейчас примет таблетки, всё пройдёт.
Вот ведь как.
2
Мы идём по коридору русского старческого дома. Ведёт нас Танечка, которая выполняет в доме роль важную: не даёт окончательно впасть в прострацию тем уже немногим насельникам и насельницам первой волны. То есть тем, кому уже минимум девяносто пять, а есть и за сто лет. Вот как кадет Иван Николаевич. В 2007 году мы отмечали его столетие. При различных болезнях он до сих пор обладает ясной головой и при встречах всё допрашивает меня, мол, может ли он сейчас поехать в Россию.
— Да куда вы поедете? — возражаю я.
— Кто вас там ждёт? Да и что делать-то будете при тамошней российской медицине?
— Ничего делать не буду, — внятно отвечает Иван Николаевич. — Просто сразу помру и всё. А цель одна — чтобы похоронили в России.
Он начинает беспокоиться.
— Ведь я вывезен-то был маленьким, кадетом. Мне было одиннадцать годков только. Так что я против России никогда не воевал, — твёрдо говорит он. — Ехать поэтому имею право.
Ну как ему объяснить, что пропадёт он в России, немощный совершенно, в одночасье. И могила его очень быстро станет безымянной.
Но это так, отвлечение. Мы, повторяю, идём с Танечкой по коридору в столовую чего-нибудь перекусить. Таня как может развлекает своих подопечных. В основном собирает их в библиотеке и поёт романсы. Иногда читает или просит почитать меня. Я это с удовольствием делаю. (Читаю свои рассказы, они мне нравятся.) Результат бывает однозначный, и я к нему быстро привыкаю. Просто на второй странице рассказа — любого содержания — наступает благоговейная тишина. Когда я поднимаю голову, то вижу: все старушки спят мирно крепким сном. Таня этому радуется и, чтобы меня не огорчать, рассказывает о терапии литературного чтения для возрастных групп 90—95—100 годов и более.
В общем, жизнь идёт, жизнь катится.
Навстречу нам движется, опираясь на «бегунки», дама весьма преклонного возраста. Но шарфик на шее и ухоженная голова позволяют сделать заключение: дама за собой следит и находится ещё в достаточно хорошей форме.
Таня нас представляет.
— Ой, княгиня, позвольте вам представить моих друзей из Москвы. Вот это — Элеонора, а это —
Но Таня не успела меня обозначить. Княгиня живо на нас взглянула и, мило улыбаясь, сказала:
— Голубушка, Таня, что же ты мне представляешь мадам Элеонору. Мы же с вами, сударыня, в Петербурге встречались, n’еst-ce pas? Я вот вас отлично помню и эту историю вашу, — и княгиня, лукаво улыбаясь, погрозила пальцем моей супруге.
«Так, — подумал я. — Начинается представление белогвардейского движения». Ибо я был реальный «homo sovieticus», и с детства помещики и тому подобное мелькали передо мной с экранов наших кинотеатров в нечастых, но до дыр засмотренных фильмах времён Гражданской.
В общем, «комиссары в пыльных шлемах»
Но княгиня, тем не менее, несмотря на моё удивление, изумление Элеоноры, моей супруги уже многие десятилетия (а я считаю, после тридцати лет супружества год идёт за два, как на фронте), и полное равнодушие Танечки, привыкшей, очевидно, к подобным поворотам мышления своих подопечных, княгиня удобно расположилась в кресле, показала нам благосклонно присесть рядом и продолжала, будто с Элеонорой, которую видит впервые, рассталась только вчера.
— Помню, помню я вас, голубушка. Отлично даже, хоть и годы пролетели. Да какие годы! Вы сами знаете, как нас трепало. Да вот и не растрепало, — княгиня мило улыбнулась куда-то в пустоту, посмотрела вдруг на меня и строго сказала: — Расстарайся, милый, чайком для нас.
Я пошёл выполнять просьбу княгини, услыхав вдогонку:
— Эти слуги вконец разболтались. Нет и нет, не уговаривайте меня. Только строгость да отеческое внушение, только они и дают возможность держать приличную прислугу. А то поглядите, мы с вами уже вон сколько лясы точим, а ваш-то стоит истуканом (это она про меня), рот открывши, и никакого тебе уважения не оказывает. Ну да ладно. Вы тоже в эту санаторию попали, голубушка? Я очень рада, будет с кем поболтать. Вспомнить.
Тут княгиня засмеялась, посмотрела на мою супругу пристально и, лукаво грозя пальцем, продолжила:
— Помню, помню, сколько смеху да переполоху наделала эта ваша выходка с царским платком.
Изумление моей супруги всё нарастало. Но Танечка ушла, чай стоял на столике, и делать было нечего — только слушать. Не убеждать же пожилую княгиню в её заблуждении в отношении Элеоноры. Я же безропотно взялся исполнять роль слуги, всё время что-нибудь подавая княгине и Элеоноре, принимая чашки, заваривая чай и тому подобное.
— Всегда бы так, — цедила сквозь зубы моя супруга.
Княгиня же с удовольствием отметила:
«Вот видите, голубушка, стоило мне проявить неудовольствие, так ваш-то как шёлковый стал. С ними только отеческая строгость. Ранее, припоминаете, и пороли в передней легонько. И всё на пользу шло. Ежели бы не эти масоны да жидовцы — и революции бы не было. Государю-то нужно и было всего ничего — отечески народец попороть, он враз бы в разум и вошёл. Ан, нет, добер был государь наш, царство ему небесное. Истинно, мученик он веры и вся семья его. А ваш случай с платком государя императора ещё долго все смолянки рассказывали. Ну, что Вы смотрите так? Неужто не помните? Государь наш с августейшей семьёй и наследником последний раз наш Смольный, благородных девиц институт посетил. Конечно, все мы уж так были взволнованы, так трепыхались, можно сказать. Мадам наша, Сесиль, от волнения портвейну много выпила, вся красная стояла. Даже государь на неё посмотрел. Но ничего, уехала семья августейшая, а вы, Элеонора, бежите по коридору, вся красная, и в руке платок держите. „Да что ты такая красная, Элеонора?“ — значит, мы спрашиваем.
Ты же ничего. Задохнулась совсем. В общем, выяснилось, что платок тот от государя. „Вот же счастье тебе“, — подумали все мы и, конечно, позавидовали. Ещё бы. И знатнее тебя много здесь были. И уж по уму, что и говорить. Только ты не обижайся. Помнишь же наш девиз: В глаза — всё, за глаза — только хорошее. Вот я и говорю, молва разнеслась.
Наша мадам Сесиль, конечно, платок взяла благоговейно. Тут же приказала педелю[1] расстараться футляром приличным, а сама начала с тобой разговоры вести, что да как, да где, да когда. Вот тут-то правда и открылась. И смех, и слёзы.
Слёзы, натурально, у тебя. Смех — у нас, грешниц. А что выяснилось.
Вы платок-то взяли, да только не у государя, а у матроса, который наследника носит. Перепутали маленько. Он тоже высокий, да волос русый. Вот как оно бывает. Правда, вас уж Сесилька песочила-песочила. Даже без сладкого оставила. Мол, будь внимательнее».
Княгиня о чём-то задумалась и больше на нас никакого внимания не обращала. Пришла Танечка, и мы, поддерживая княгиню, повели её в комнату.
Ещё раз она оживилась, уже полулёжа на диване.
«А вы, голубушка, по-прежнему при туалете у Лувра? Ну и ничего. Я сколько годков в „Распутине“ при туалете находилась. Да Бог милостив, сына выучила, он меня и забрал. Всё помню, князь Феликс[2] ко мне захаживал. Очень мой чай хвалил. „Чай такой, княгиня Прасковья, я только в своей подмосковной пивал. В оны годы“. Знамо дело, в оны.
Так что вы в туалете чаем озаботьтесь. Глядишь, кавалеры не только по нужде к вам заходить будут.
Ладно, идите уж с богом. Рада была встретить вас, голубушка. Захаживайте в нашу санаторию: здесь, право, неплохо. А слуг держите в строгости. Вот государь всё в демократию играл. И доигрался. Нет, голубушка, вы уж попеняйте слуге, попеняйте. Он строгости любит и вас удивлять будет, верьте мне, старой».
Княгиня стала задрёмывать. Мы тихонько ушли. Жизнь продолжалась.
3
Княгиню теперь редко вывозили из её комнаты, ибо княгиня теряла рассудок прямо на глазах. А младшему и среднему медперсоналу Русского дома в Сент-Женевьев-де-Буа трудно стало понимать её требования. И боялись: она может уйти куда угодно. Ещё бы: в этом году ей исполняется сто один год. Всё-таки возраст. Хотя в этом доме возрастом кого-либо удивить трудно. Наследственность да сила духа — вот что в основном и держит на этом свете жителей Русского дома.
Ещё бы. Практически каждый прошёл такую школу жизни! Начиная от катастрофы исхода и, вот, заканчивая тихим пристанищем в маленьком городке близ Парижа. О котором, кстати, знают в России достаточно. Особенно в последнее время.
Так вот, княгиню старались выпускать поменьше. А в её комнатке ей предоставляли всё необходимое и ею требуемое. И делали это с большой ответственностью. Ибо княгиня обладала какой-то необъяснимой силой, покоряющей всех, кто с ней соприкасался, будь то врач, медсестра, нянечка или просто знакомые или дальние родственники, которые нет-нет да заезжали повидать тётушку.
Правда, с тётушкой-княгиней было нелегко. Ибо никто не имел права, да и не мог, высказать своего мнения или мнения противоположного. Вот такова была сила характера и духа этой женщины.
Уже давно в Доме её звали «княгиня». Просто пациентка твёрдо и решительно разъяснила директору Дома и персоналу, что это значит — княжеский титул.
— Княжеский титул, любезный, — разъясняла княгиня слегка растерявшемуся директору, — не даётся, не награждается и следует за фамилией испокон и по рождению. И никак иначе. А то что же это значит, голубчик? Например, здесь, во Франции, дают звание барона иудею Ротшильду. И что, я теперь должна его принимать? Да вы что! Это мне, записанной в бархатной книге?
Она слабо махнула рукой. Директор ушёл, и с тех пор как-то само собой это название и закрепилось. Многие уж по-настоящему и забыли, как её зовут — княгиню. Так и называли: «ты княгине лекарство давала?»
Княгиня и вела себя в Доме соответственно. Нет, не самодурничала. И не капризничала. Но требовала от персонала работы жёстко и неукоснительно, пока была здорова.
К ней в те времена иногда наведывались такие гости, что ой и ой. Особенно часто бывали генерал Деникин и граф Коковцев. Пили чай в беседке. Однажды граф даже и опростоволосился. Просто приехал в Дом в июле, в самую жару, да и сказал, вытирая пот со лба:
— Эх, сейчас бы кваску холодненького с изюмом попить. Распорядились бы, княгиня.
На что и получил достойный ответ:
— Где это вы, граф, видели, чтобы в порядочных домах квас был?
— Да, гм, на самом деле, где же это? — бормотал смущённый граф.
Пытались с княгиней увидеться и сотрудники Посольства Советов. Но не получилось. Княгиня делала вид, что не понимает, кто́ это.
— Какое государство эти люди представляют? — обычно спрашивала она. И сама же разъясняла: «Я такого государства не знаю. Я знаю Российскую империю. Вот пусть они к государю императору и обращаются».
С тем различные люди и уходили.
4
А сейчас княгиню окружали тени. Это стало происходить с нею недавно, когда она не могла уже так часто выходить из своей комнаты.
Тени эти поначалу её тревожили, а затем она привыкла к этакому двойному существованию и только стремилась, чтобы уж сюда, в эту её потаённую жизнь никто не ворвался.
Зрение слабело, но и сквозь туманную пелену, иногда закрывающую глаза, она снова видела этого офицера конногвардейской артиллерии, всего забрызганного грязью, с каким-то обугленным, чёрным лицом.
— Вы что, ничего не понимаете? Сегодня здесь уже будут красные. Вам осталось жить час-два от силы. Я со своей батареей — последний. Бросьте всё, свои чемоданы, сундуки. Детей берите — и вперёд, до Севастополя немного, а там эвакуация, — офицер даже не кричал, он хрипел.
Княгиня сползла с кровати. «Эвакуация» — это слово она знала и помнила.
— Как эвакуация, а как же я? Я здесь заперта. Боже, дай мне силы, — и она принялась стучать в дверь.
Через некоторое время княгиня снова легла на кровать. Она находилась в забытьи. Лекарства были сильнодействующие.
И её снова охватило какое-то беспокойство. Ещё бы. Предстояла поездка по деревням, и она справедливо беспокоилась: всё ли уложено? Этот Порфирий, хоть и честен, нечего сказать, но бестолков уж до крайности. Да и все ли кареты в порядке: и моя, и для гувернанток, и доктора? И главное — кибитку повара и кухню. И не забыть — смотреть, как хлеба в этом году. Да карты взять для пасьянса. Да чаю побольше.
А в голове, сквозь какой-то постоянный звон и шум, вроде как море в Ялте, уже тихонько начала звучать гитара приказчика.
Тает Божьей лампады свет. Ты опять у окна и тоскуешь, И глядишь на граната браслет, И меня, вероятно, не любишь. Ведь я скоро уйду воевать, За царя и отчизну сражаться, И в окопах тебя вспоминать, И во снах к тебе вновь возвращаться.
«Вот ведь совсем беспутный. А держу за эту вот гитару. За эти песни». Так мелькали эти и разные другие мысли княгини, в основном же хозяйственного свойства. Ну как продать хлеб на корню? И продать ли его? Все говорят, война вот-вот с Германией. Ох, плохо, советчиков нет. А что есть — то не советчики.
А война — вот она. Поэтому и вновь встревожилась княгиня. Нет, всё не ладно. Запах гноя. Его ни с чем не спутаешь. Засохшие бинты. Императрица неслышно ступает по коридорам. Опять в операционную. Потом в палаты. Ольга, Мария и Татьяна — великие княжны — потихоньку флиртуют с офицерами. Но не дай бог чтобы маман заметила. Анастасия, озираясь, ест японские вишни в сахаре.
Княгиня беспокойно поворачивается на кровати. Хватит ли белья и бинтов? Сегодня вроде снова обещали подвоз раненых.
Обед. Княгиня выходит в коридор Дома. Все на обеде. Кто в своих комнатах, кто в столовой. С каждым годом в столовой посетителей всё меньше и меньше.
Княгиня и есть не особенно хочет, но требует от себя: ешь. Ибо нужно жить. Да для чего-то же Бог дал эту жизнь мне. Вот и нужно прожить её достойно — по крайней мере, стараться.
Она внимательно смотрит в окно. За окном несколько уток и селезень. Важно и недовольно крякают: сегодня еды дали маловато. А по дорожке идёт (она уж который раз это видит) тот конногвардейский артиллерийский офицер. Такой молодой, весь в пыли, грязи и копоти. Он неслышно открывает рот, но княгиня понимает. Снова он кричит им спасаться. А сам со своей батареей постарается держать красных до последней возможности.
Княгиня испуганно оглядывается. Никто вроде и не видит. Она понимает, что это видение ей. Но не хочет, чтобы заметили другие, и быстро, насколько это возможно, идёт к столу.
Сёстры обеспокоены зря. Княгиня замечаний им не делает, а после обеда просит отвезти её в домовую церковь. И оставить одну. Она одна хочет молиться.
Сёстры и рады. Княгиня спокойна.
А в маленькой домашней церкви хорошо. Темновато, но лампады отсвечивают красным и зелёным, меняя печальные и строгие лики святых на иконах.
И княгиня плачет. Её никто здесь не видит. Не видят, что вокруг неё стоят государь, государыня, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. А у государя на руках Алексей. И государыня тихонько так ей говорит, что не стоит расстраиваться. Они знают: их помнят. Но только жизни жалко — и государыня тоже заплакала.
* * *
— Вывезти вас, княгиня, в парк? — спросила её медсестра.
— Нет, голубушка, не надо. Жарко там очень. Пожалуй, в мою комнату лучше будет.
Княгиня хорошо устроилась у окна в кресле. Решила немного подремать. Но не получилось. У окна чей-то знакомый хриплый баритон тихонько запел её любимый романс.
Спят леса во мгле туманной, Освещён блиндаж-брустве́р. И играет очень странный, И играет очень странный На гитаре офицер. Вот погон и аксельбанты, Шпоры тренькают слегка. Нам сейчас не до талантов, Нам сейчас не до талантов: Жизнь на фронте коротка. Если смог ты продержаться, Не погибнуть в первый раз, Значит, в жизни задержаться, Значит, в жизни задержаться Суждено тебе сейчас. И гитара хоть играет, И в палатках свет погас, Офицер ещё не знает, Офицер ещё не знает: Поднял взвод в последний раз. Спят леса во мгле туманной, Бугорок зарос травой. Офицер там этот странный, Офицер там этот странный Без гитары. Неживой.
Княгиня оглядывалась. Да так явственно это слышалось. Она даже знает, кто́ поёт. Это тот офицер конногвардейской артиллерии, что спасал их под Севастополем. Голос хриплый, но какой романс!
Княгиню обнаружил врач, делавший ежедневный обход. Она сидела в кресле, но была мертва. Ещё бы: возраст-то за сто лет. Никто не обратил внимания, что скончалась она 17 июля — в годовщину гибели царской семьи.
В комнате было тихо. Вздыхали медсёстры. А врач всё оглядывался: ему так явственно вдруг послышалась фраза из старого-старого романса:
Офицер там этот странный Без гитары. Неживой.
Антони, Франция, 21 июля 2008 г.
[1] Педель — служитель в благородном учебном заведении (прим. авт.).
[2] Юсупов (прим. авт.).